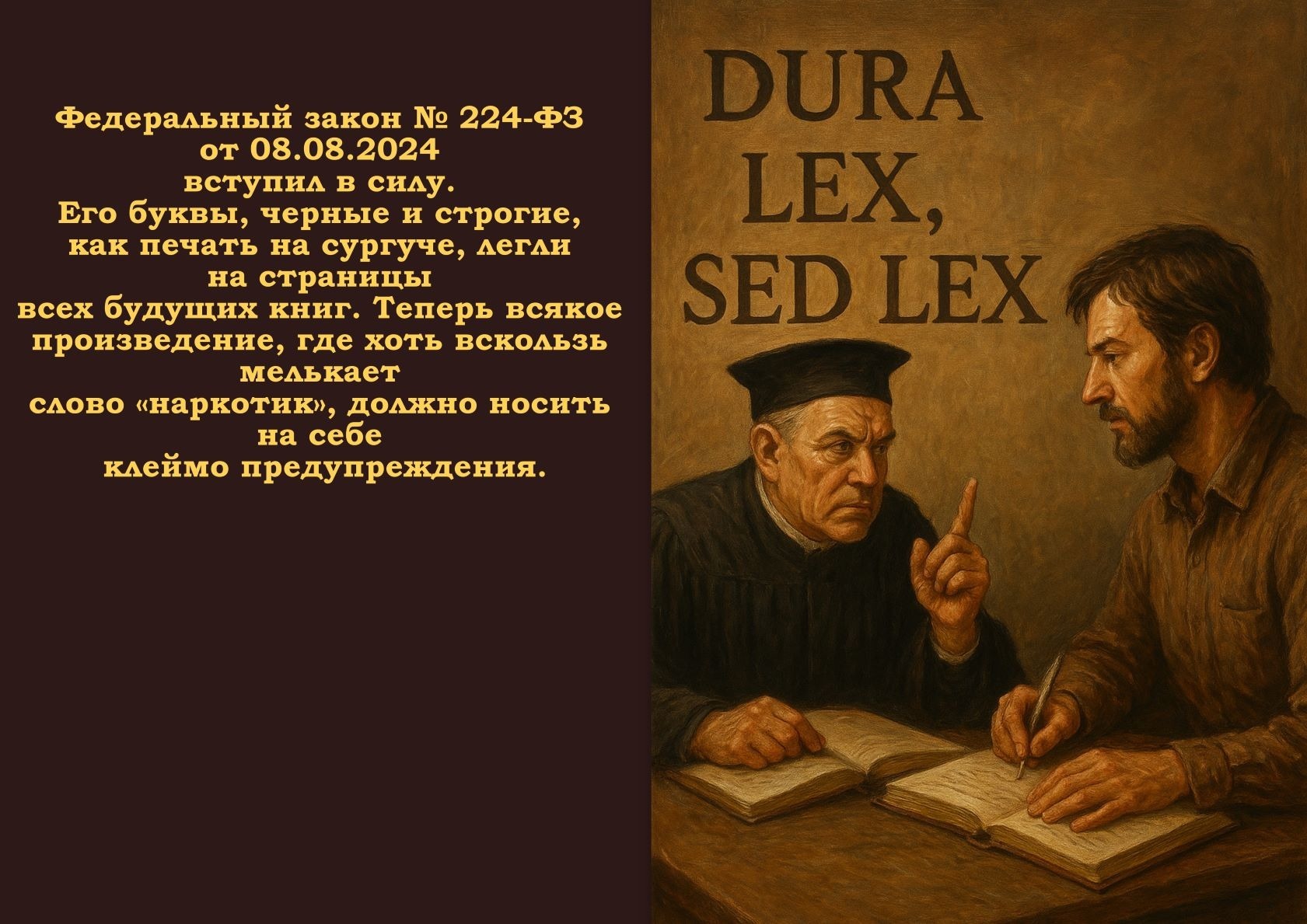
Под сенью закона
Dura lex, sed lex. — Римская пословица
«Высшее право может обернуться высшей несправедливостью» — Цицерон
«Закон живёт в букве, а правда — в слове. Но кто из них долговечнее?»
«Свобода художника всегда ходит по краю — между истиной и законом»
Пролог (Джахангир Абдуллаев: литературный дневник)
Сегодня я снова поймал себя на том, что между пером и законом пролегает тонкая, как лезвие бритвы, грань.
Федеральный закон № 224-ФЗ от 08.08.2024 вступил в силу. Его буквы, черные и строгие, как печать на сургуче, легли на страницы всех будущих книг. Теперь всякое произведение, где хоть вскользь мелькает слово «наркотик», должно носить на себе клеймо предупреждения.
Я сижу в библиотеке, открываю старые тетради. Вот стихотворение двадцатилетней давности — юношеское, наивное. Тогда оно казалось мне игрой, метафорой. Сегодня же оно может быть прочитано буквально, в свете суровой нормы. И я думаю: неужели теперь даже метафоры должны ходить с ярлыком, словно каторжане с номерами на спине?
Dura lex, sed lex.
Закон суров — он не спрашивает, что хотел сказать автор, он видит только буквы.
Но закон всё же делает оговорку: — «Художественные произведения, — говорит он, — где информация о наркотиках является частью художественного замысла, не подпадают под запрет».
Значит, искусство всё-таки оставляют жить, хотя и при условии, что оно признает своё рабство перед буквой закона.
Я вспоминаю латинскую мудрость: закон — как скала. Он не подстраивается под нас, он требует, чтобы мы подстраивались под него. Скала не станет мягче от того, что ты бьёшься о неё лбом. Но и человек не становится слабее, если умеет обойти её тропой.
Закон не враг, он лишь страж. Но всякий страж суров и равнодушен: он не вникает в замыслы, он проверяет печати.
А ведь есть и другая истина: summum ius, summa iniuria — «высшее право может быть высшей несправедливостью».
И вот где проходит черта: как сохранить искусству свободу, не нарушая суровую букву?
Я записываю в дневник:
— Писатель — это тот, кто учится говорить о запретном так, чтобы слышали дозволенное. — Закон — это зеркало общества: суровое, но честное. — Dura lex, sed lex — не приговор, а напоминание, что свобода художника всегда ходит по краю.
Закрываю тетрадь. На обложке — тёмное пятно от чернил, похожее на печать.
И кажется мне: это и есть мой собственный штамп, моя личная маркировка.
***
Под тенью закона (Dura lex, sed lex)
(Новелла)
Тусклый свет фонаря падал на каменные ступени. Самандар поднимался по ним, чувствуя, как каждая ступень давит на грудь тяжестью. «Ну вот, — думал он, — иду защищать не себя, а слово. Но разве слово нуждается в защите? Разве не оно нас защищает?»
Он вошёл в здание министерства. Холодный коридор встретил его тишиной, как пустая церковь без молитвы. В каждом углу стояли тени, и ему показалось, что это молчаливые стражи закона.
В кабинете у окна — чиновник. Статный, седой, лицо резкое, как вырубленное из камня. Он не улыбнулся. Лишь взгляд — строгий, испытующий.
— Роман? — коротко спросил он, кивая на папку в руках Самандара.
— Роман, — кивнул тот. — Там есть боль. Есть трагедия. Есть то, что нельзя обходить молчанием. Но ведь теперь — маркировка, печать, клеймо… Вы хотите, чтобы искусство шло с кандалами?
Чиновник медленно поднял глаза, и в них мелькнула сухая искра.
— Dura lex, sed lex. Закон суров, но закон есть закон.
— Но вы же понимаете! — воскликнул Самандар, чувствуя, как голос предательски дрожит. — Если я пишу о гибели юноши от наркотика, это предупреждение! Это крик! А вы заставляете меня поставить ярлык, будто я торгую ядом!
Внутри него что-то оборвалось. «Вот он — страж, хранитель буквы, камень у дороги. И я, писатель, должен биться о него лбом, пока не разобьюсь?»
— Я понимаю, — холодно произнёс чиновник. — Но закон не спрашивает. Закон не различает ни метафору, ни крик души. Для закона есть только слово.
Он сказал это устами человека, а в ушах Самандара это прозвучало голосом стены, голосом камня.
Наступила тишина. Слышно было лишь, как часы отмеряют минуты — сухо, жестоко, неумолимо.
Самандар поднял голову. Лицо чиновника — усталое, каменное, но в глубине глаз — тоска, спрятанная, но живая. И вдруг писателю показалось: этот человек тоже пленник. Он — узник буквы, как Самандар — узник слова.
— А если правда окажется выше закона? — спросил Самандар почти шёпотом.
Чиновник дернулся, словно его ударили. Долго молчал, потом снял очки, и голос его прозвучал глухо, почти исповедально:
— Тогда… тогда и я стану преступником.
Он замолчал. Лишь тихо добавил:
— Но пока — dura lex, sed lex.
Самандар взял рукопись. Бумага казалась тяжелее железа. Он вышел в коридор, шаги отдавались эхом, как удары молота по наковальне.
«Да, закон суров, — думал он. — Но слово… слово ещё суровее. Оно живет дольше всяких законов. Оно упрямее, оно свободнее. А я — всего лишь его проводник».
И ему показалось, что в этом мраке тени больше не давят, а слушают. И даже часы замерли, пропустив его к двери.
Эпилог
Прошли годы.
Роман Самандара всё же увидел свет — с тем самым ярлыком, который когда-то казался ему кандалами. И странное дело: ярлык почти никто не заметил, глаза читателей скользили мимо, не задерживаясь. А вот слова, живые, жгучие, тревожные — остались.
Законы изменились. Одни смягчились, другие ужесточились. Номер 224-ФЗ давно сменили новые указы, новые формулировки, новые печати. Чиновника того уже не было на службе — седина его растворилась в небытии архивов. Но спор, который состоялся в том холодном кабинете, жил в памяти Самандара.
Иногда он думал: «А ведь мы оба были правы. Он — в своём служении букве. Я — в своём служении слову. Но выше нас обоих была истина: закон меняется, а слово остаётся».
И, листая старый дневник, он снова наталкивался на короткую запись, сделанную в тот день:
Dura lex, sed lex.
Но ещё суровее — жизнь.
И ещё свободнее — слово.
Он улыбался. И знал: всё, что написано сердцем, переживёт и законы, и ярлыки, и чиновников. Потому что слово всегда идёт вперёд — без печатей и без разрешений.